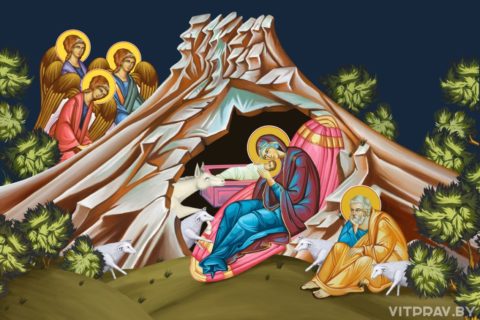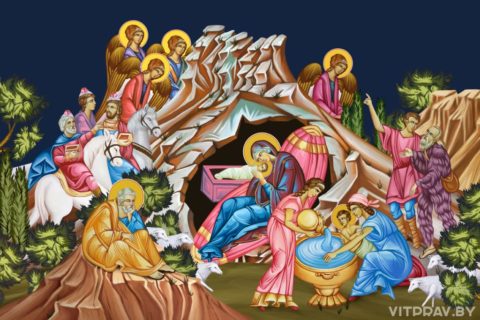К 300-летию со дня рождения святителя Георгия (Конисского) и к 180-летию со дня кончины А. С. Пушкина
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу.
А. С. Пушкин
Но что для меня было преимуществом,
То ради Христа я почёл тщетою.
(Фил. 3,7)
 О том, что Александр Сергеевич Пушкин дважды посетил город Витебск, в мае 1820 года проездом из Петербурга на юг и в сентябре 1824 года, возвращаясь из южной ссылки в Михайловское, всем хорошо известно. Об этом же гласит надпись у памятника великому поэту в центре города. Витебчане благодарно увековечили память любимого поэта: улица, библиотека, мост через реку Витьба носят его имя. Ежегодно областной Союз писателей у памятника Пушкину проводит праздник поэзии его стихов. По дороге из Одессы 6−7 августа 1824 года Пушкин остановился в Могилеве. Об этом имеются воспоминания А. П. Распопова. Но не все, вероятно, знают, что великий поэт увековечил память святителя Георгия (Конисского), архиепископа Могилёвского и Белорусского.
О том, что Александр Сергеевич Пушкин дважды посетил город Витебск, в мае 1820 года проездом из Петербурга на юг и в сентябре 1824 года, возвращаясь из южной ссылки в Михайловское, всем хорошо известно. Об этом же гласит надпись у памятника великому поэту в центре города. Витебчане благодарно увековечили память любимого поэта: улица, библиотека, мост через реку Витьба носят его имя. Ежегодно областной Союз писателей у памятника Пушкину проводит праздник поэзии его стихов. По дороге из Одессы 6−7 августа 1824 года Пушкин остановился в Могилеве. Об этом имеются воспоминания А. П. Распопова. Но не все, вероятно, знают, что великий поэт увековечил память святителя Георгия (Конисского), архиепископа Могилёвского и Белорусского.
Великий Достоевский объясняет любовь русского народа к Пушкину тем, что он вмещал в себе в степени высшего совершенства ту широту русской души, из которой она может перевоплощаться в умы и сердца всех народностей, обнимать собою лучшие стремления всякой культуры и вмещать их в единстве нашего народного христианского идеала. А потому мне хотелось бы отметить примечательную сторону его творчества, связанную с историей Православия на Беларуси.
За несколько веков католической и униатской экспансии на белорусских землях сотни православных праведников сподобились мученической кончины за исповедание Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Немало духовных наставников возвышало свой голос в защиту теснимой веры отцов, культуры и языка белорусского народа. Одним из тех, кто полагал конец угнетению православной веры, был архиепископ Могилевский Георгий (Конисский), прославленный Богом и почитаемый потомками.
В 1835 году в С.-Петербурге вышло двухтомное собрание сочинений этого белорусского святителя в издании протоиерея Иоанна Григоровича. Александра Сергеевича Пушкина, превосходно знавшего и любившего Белоруссию, сразу привлек внимание обширный труд архиепископа Георгия, и в первом же томе журнала «Современник» он откликнулся статьей «Собрание сочинений Георгия Конисского, Архиепископа Белорусского».
В этой статье Пушкин назвал белорусов «народом, издревле нам родным». Обратим внимание: не братским даже, как часто принято ныне говорить, а родным, не имея в виду историческую и духовную общность.
Статья начинается с упоминания о том, что архиепископ Георгий (Конисский) известен в России краткой речью, которую произнес он в Мстиславле императрице Екатерине во время ее путешествия в 1787 году. «Речь сия, прославленная во всех наших риториках, не что иное, как остроумное приветствие и заключает в себе затейливую игру выражений и в умилительной простоте своей глубокое истинное красноречие».
В трудах архиепископа Георгия его особенно поразило обширное сочинение «История руссов», в котором Пушкин отметил у автора глубокое знание Белоруссии и Малороссии, сочетание поэтической свежести, критики и страстной любви и боли за судьбы народов, их населяющих. Он увидел в архиепископе Георгии выдающегося проповедника, замечательного живописателя и пламенного патриота своей православной родины. Хотелось бы привести несколько высказываний из этой статьи Пушкина, редко упоминаемой нашими писателями и журналистами.
«Георгий есть один из самых достопамятных мужей минувшего столетия. Жизнь его принадлежит истории. Он вступил в управление своею епархией, когда Белоруссия находилась еще под игом панской Польши. Православие было гонимо католическим фанатизмом. Церкви наши стояли пусты или отданы униатам. Миссионеры насильно гнали народ в униатские костелы, ругались над ослушниками, секли их, заключали в темницы, томили голодом, отымали у них детей, дабы воспитывать их в своей вере, уничтожали браки, совершенные по обрядам нашей церкви, ругались над могилами православных».
Да! Могилёвский епископ Иосиф Волчанский, доведённый до крайнего отчаяния, в 1740 году писал в Синод: «слёзно прошу подати защищения или увольте меня от послушания». Нелегко было найти избранника на тяжелейшую Белорусскую кафедру. Григорий (такое имя было дано будущему великому подвижнику при крещении) ещё учился в Киево-Могилянской Академии, которую закончил в 1743 году «с особенною похвалою». В этом же году он принимает монашеский постриг с именем великомученика Георгия Победоносца и решает идти тесным путём, указанным Господом нашим Иисусом Христом: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7, 13−14). У Пушкина к моменту изучения Собрания сочинений архиепископа Георгия (Конисского) был уже написан цикл духовных стихов, и строки из стихотворения «Странник»:
Дабы скорей узреть — оставя те места,
Спасенья верный путь и тесные врата.
Эти слова оказались созвучными выбранной жизненной цели молодого инока Георгия, которую он высказал в одной из ранних проповедей: «Приметим, куда сей путь лежит? Воистину, прямо через Голгофу; си есть за Христом идущий не минёт Голгофы страдания…» Эти слова оказались пророческими во всей его жизни.
Пушкин описывает, как епископ Георгий искал защиты у русского правительства. Он доносил обо всём Св. Синоду и жаловался нашему посланнику, находившемуся в Варшаве. Ревность его пуще озлобила гонителей. Доминиканец Овлачинский, прославившийся ненавистью к нашей Церкви, замыслил принести епископа в жертву своему изуверству. В 1759 году епископ Георгий, презирая опасности, ему угрожающие, поехал обозревать сетующую свою епархию. Овлачинский и миссионеры возмутили в Орше шляхту и жолнеров. Они разогнали народ, вышедший с хоругвями навстречу своему архипастырю, остановили колокольный звон и с воплем ворвались в церковь, где епископ Георгий священнодействовал. Преосвященный едва успел спастись от их сабель в стенах Кутеинского монастыря, откуда тайно вывезли его в телеге, прикрыв навозом.
Архиепископа Георгия (Конисского) Пушкин считает героем и мучеником своего пастырского долга, ибо он дважды подвергался нападению католиков, и оба раза с опасностью для жизни. С возмущением описывает он второе покушение на жизнь епископа Георгия, организованное иезуитскими воспитанниками в Могилеве: «Буйные молодые люди вломились в ворота (архиерейского дома), ранили несколько монахов, семинаристов и слуг; но, к счастью, не нашли Георгия, скрывшегося в подвалах своего дома».
После десяти лет духовной деятельности сначала в качестве проповедника Киево-Печерской Лавры, преподавателя и затем ректора родной ему Академии в сане архимандрита Киево-Братского монастыря Георгий (Конисский) дал добровольное согласие на епископство в Могилёве. А в официальных кругах Польско-Литовского государства уже обсуждался вопрос об упразднении Могилёвской епархии, а Папа Римский прямо требовал изгнания православного епископа.
«Да изгонится схизматик, яко насильник», — писал он коронному канцлеру Польши. И только после настойчивых требований Российского правительства польский король дал согласие, чтобы Георгий Конисский стал архипастырем в Могилёве. Православный люд встретил его радостно, но в каком же жутком состоянии он застал свою подначальную епархию! Пушкин в своей статье приводит большую цитату из проповеди епископа Георгия в Виленском Свято-Духовом монастыре: «Ныне кому неизвестно, в каком жалком виде нашаблагочестивая вера в сем государстве?.. Отнят у православных свет учения. В великом Литовском княжестве хотя и осталась последняя Белорусская епархия, однако, и сия большей частью расхищена. Школам и семинариям быть не допускают. Веру Православную в последней нищете и простоте исповедать не допускают. Гонят православный народ, как овец, не имущих пастыря, или до костёлов, или до униатских церквей — гонят не точию из домов, но и из церквей наших, приказчик бьёт народ плетью, как скот гонят из хлева… И если поселяне или граждане слушать их учения или от веры своея отступать не хотят, — тут они чинят ужасные угрожения и страхования: ставят виселицы, скатывают столбы, возгнещают костры, розги, терния и другие мучительные орудия… Отлучив детей от матерей и матерей от детей, детей убо пред очима матерей и розги кладут, а матерей пред очима детей. Тут вопли и рыдания, каковы, быть может, токмо во время избиения младенцев от Ирода слышны были… Молчу о пастырях бедных, священстве нашем. Сколь многие из них изгнаны из домов, многие в тюрьмах, в ямах глубоких, во псарнях вместо с псами заперты были, гладом и жаждою моримы, сеном кормлены, сколь многие биты и изувечены, а некоторые и до смерти убиты».
Пушкина привлекли простота, увлекательная искренность проповедей, большое достоинство политических речей и глубокая вера архиепископа Георгия (Конисского). Он поместил в своей статье несколько отдельных мыслей из его проповедей:
«Для молитвы пост есть то же, что для птицы крылья»
«Душа бессмертная от бренного тела, как птица из растерзанной сети, весело взлетевши, воспаряет в рай Богонасажденный, где вечно цветет древо жизни, где жилище Самому Христу и Избранным Его»
«Нигде не читаем, чтобы язычники страдали за своих идолов так, как Мученики Христианские за веру Христову, да и в нынешних богоборных сонмищах атеистов и натуралистов, в главных гнездах их, во Франции и Англии, нашелся ли хотя такой ревнитель, который бы за безбожие свое или натурализм произвольно на муки дерзнул?»
«Радость плотская ограничивается наслаждением: по мере как затихает веселый гудок, затихает и веселость. Но радость духовная есть радость вечная; она не умаляется в бедах, не кончается при смерти, но переходит по ту сторону гроба».
В этой же статье Пушкин показал и поэтическое дарование архиепископа Георгия, автора русских, польских и латинских стихов. Он отметил, что в художественном отношении они не совсем совершенны, зато «виден дух мыслящий». Одна из элегий показалась ему особенно примечательной, а потому он привел ее полностью. Приведу одно четверостишие:
О! смертный, беспечный, посмотри в зерцало:
Ты сед, как пятьдесят лет тебе миновало.
Как же ты собрался в смертную дорогу?
С чем ты предстанешь Правосудному Богу?
В 1768 году, несмотря на Трактат вечной дружбы двух государств, гонители-католики решили схватить и убить епископа Георгия. Верующие люди заблаговременно предупредили об опасности и просили его выехать из Могилева.
Владыка Георгий 24 июля этого же года отбыл в Смоленск и находился там по 1772 год.
Находясь в Смоленске, святитель продолжает заниматься попечением о своей пастве посредством писем. В соавторстве с епископом Смоленским Парфением (Сопковским) он составляет практическое пособие «О должностях пресвитеров приходских», очень нужное для священнослужителей. Это классическое произведение по вопросам литургики, проповеди и особенно пастырского богословия переведено на английский и другие языки.
Там же, в Смоленске, епископа Георгия застала весть о первом разделе Польши. Отошедшие к России южные провинции Беларуси — Могилев, Орша, Мстиславль и Рогачев составляли теперь Могилевскую епархию.
10 марта 1773 года святитель Георгий был вызван в Санкт-Петербург, где получил назначение архиерея Могилевской епархии.
Деятельность епископа Георгия по защите Православия и борьбе за возвращение униатов в лоно Православной церкви не осталось без внимания. В 1783 году он был возведен в сан архиепископа и назначен членом Святейшего Синода. Апостольские труды архиепископа Георгия не ограничивались только пределами Могилевской губернии, но распространялись на всю Беларусь и Украину.
Незадолго до своей кончины архипастырь составил завещание, в котором выражалась забота о церковном богослужении, порядке в Церкви, о монашестве, о семинарии и делах епархии, о клире, пастве и благотворительности. Им был установлен порядок благотворения по субботам в городских церквах. В нем было желание облагодетельствовать каждого тем, что Господь всем дает. Спасти каждую душу, спасти свое отечество. Это было близко и Пушкину, это близко и нам, жившим в 21 веке.
«Когда темнеет на дворе, усиливают свет в доме. Береги, Россия, и возжигай сильнее твой домашний свет: потому что за пределами твоими, по слову пророческому, «тьма покрывает землю и мрак на языки» (Ис.60, 2).
Пушкин побуждает нас по-христиански «мыслить и страдать». Мы чувствуем его страстное желание в укреплении связи времён. И не только в слове выраженное, сколько воплощённое самим строем пушкинского духовного мышления.
Многие отрывки из проповедей архиепископа Георгия Конисского, приведённых Пушкиным в своей работе, обращают нас к Священному писанию: «Когда грешник, не хотящий покаяться в беззакониях своих, молится Богородице и вопиет Ей: Радуйся! то приветствие сие оскорбляет Её… Ибо нераскаянный грешник есть новый распинатель Христов». В Послании ап. Павла читаем: «…и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему» (Евр. 6,6).
«Вниди в клеть твою и помолися». «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6,6). «Такая уединённая молитва и в соборе может иметь место, если молящийся уединился от всех забот и попечений и пребывает безмолвен среди молвы, его окружающей; если он, отрясши от чувств своих все страсти и вожделения, един с единым Богом беседует».
«Чужой грех» на мне не лежит. Но, если чужой грех содевается моим советом, согласием или неосторожным примером, тогда он не только лежит на мне, но и как жёрнов, тяготит душу мою"."Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит". (Мф. 18,7).
«Действительно, грех соблазна прежде меня, прежде моей смерти, предшествует на Суд Божий, и уже по кончине моей следует туда же за мною. Скажу то же другими словами. Все соблазнённые примером моим, и прежде меня позванные на Суд Божий, уже понесли грехи мои. Убо уже готовы для меня муки. Но тут ещё не всё. Я умер и перестал грешить: но все соблазнённые мною, и притом все, от соблазнённых мною вновь соблазняемые, оставаясь ещё в сей жизни, посылают вслед за мною, бесчисленные беззакония, от единого примера моего, яко от единого блата, истекающие.
Убо готовы для меня новые, сугубые мучения! Вот так ужасен грех соблазна, ужаснее многоглавой Лернейской гидры!"
Право же, как страшно читать эти строки! И особенно родителям, ученикам, священникам, писателям. Эти религиозные переживания были присущи самому Пушкину.
Мы убедились, что высокий духовный подвиг архиепископа Георгия воодушевил и протоиерея Иоанна Григоровича, издавшего труды святителя, великого поэта Пушкина, открывшего архиепископа Белорусского русскому читателю через свой «Современник», и выдающегося православного белорусского исследователя, автора книги «Путь непечален» Алексея Анатольевича Мельникова, и священство Могилёвской епархии, издавшего в 2003 году под одной обложкой «Житие, служба и акафист святителю Георгию Конисскому Архиепископу Могилёвскому и Белорусскому». А. А. Мельников писал: «Мир заблудился во тьме желаний. Но и ночь становится светла, когда приходят люди со светом Божественной истины — молитвенники и заступники пред Господом. Они жили среди наших предков, они живут и среди нас, оставляя о себе память в народах, почитающих своих святых поклонением и молитвенным общением».
Пушкин в статье о архиепископе Георгии (Конисском) показал себя и как историк, и как критик и публицист, а главное — как мудрый писатель пророк. Мы действительно убедились в его, как выразился через 45 лет Достоевский, изумительной «всемирной отзывчивости». И во всем мы видим глубокий проницательный ум, доброе сердце, мужественную волю. Он не ошибся в достоинствах будущего белорусского святого.
Исповедническая праведная жизнь святителя Георгия оставила в белорусском народе светлую память. Он, как и предсказывал Пушкин, вошел в историю Беларуси, как выдающийся церковный деятель, прославленный проповедник 18-го века, талантливый политик и дипломат, ученый, педагог, писатель, как мужественный борец за веру против религиозного и национального угнетения, самоотверженно преданный Церкви пастырь Христов.
12 декабря 1992 года в связи с 275-летием со дня его рождения в г. Могилеве Отечественный фонд Беларуси назван именем Георгия (Конисского), а на доме архиепископа установлена мемориальная доска. А еще через год решением Могилевского совета возвращено валу Красной Звезды историческое название — Архиерейский вал им. Георгия (Конисского). В этом же 1993 году архиепископ Георгий (Конисский) причислён к лику местночтимых святых Белорусского Экзархата Русской Православной Церкви.
К 200-летию со дня кончины святителя при кафедральном соборе в г. Могилеве построен и освящен крестильный храм во имя святого Георгия, архиепископа Могилевского и Белорусского. Еженедельно в этом храме читается акафист cвятителю. В настоящие время решается вопрос о переименовании площади Орджоникидзе в площадь имени Г. Конисского.
Можно сказать, святитель Георгий (Конисский) достойно встал в один ряд с Ефросинией Полоцкой, Кириллом Туровским, Софией Слуцкой, Афанасием Брестским и другими святыми, в земле Белорусской просиявшими и слившимися с сонмом русских святых. А в Великом Новгороде уже 155 лет привлекает всех к себе внимание уникальный монументальный памятник в виде громадного колокола, воздвигнутый в честь 1000 — летия христианства на Святой Руси. Среди рельефных изображений прославленных людей России мы видим и нашего святого Георгия (Конисского). Рядом с ним — святители Димитрий Ростовский, Тихон Задонский, Митрофан Воронежский и другие. Значит, недаром великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин назвал белорусов «народом, издревле нам родным».
Красной нитью через проповеди святителя Георгия (Конисского) многие стихи Пушкина проходит тема покаяния и осознания своих юношеских грехов:
Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино, — печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе…
***
Я пережил свои желанья,
Я разлюбил свои мечты;
Остались мне одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.
Особенно беспощадно искренен он в своих элегиях-воспоминаниях:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят, в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминания безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток:
И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слёзы лью,
Но строк печальных не смываю.
Можно ещё назвать «Воспоминания о Царском Селе», в котором лирический герой «с поникшей главой», как «отрок Библии, безумный расточитель,// До капли истощив раскаянья фиал,// Увидев, наконец, родимую обитель,// Главой поник и зарыдал».
Пушкин не раз обращался к притче о блудном сыне: в письме к Вяземскому
Таким образом, многие проповеди святителя Георгия (Конисского) были близки жизненному пути и духовному миру Пушкина, поэтому он с особым пристрастием и почти личным интересом изучил сочинения белорусского святителя и написал свою замечательную статью. И это, несмотря на то, что 1836 год был наиболее труднейшим в жизни Пушкина во всех направлениях: материальном (содержание большой квартиры, прислуги, лошадей, всё увеличивающейся с каждым годом семьи, дорогих нарядов для жены и её сестёр — всё это требовало огромных денег, а потому Пушкин был постоянно в больших долгах), в моральном и психологическом (возмутительная история подготовки омерзительно-вражеской сети к убийству Пушкина, начиная от сестёр жены и кончая западным масонством и придворным окружением во главе самого императора Николая I), творческом (не было ни покоя, ни вдохновения, ни времени: звание камер-юнкера, присвоенное царём великому поэту, дабы чаще видеть его жену на балах и танцевать с ней, унижало Пушкина и требовало бывать на всех царских вечерах в Аничковом дворце). Поэт чувствовал себя на этих балах прескверно.
Он писал прошение об отставке, умолял жену уехать в Болдино, но никто не внял его просьбам… А страшная развязка нам известна: «не вынесла душа Поэта позора мелочных обид…» Роковой выстрел на Чёрной речке, прозвучавший 180 лет тому назад, до сих пор отзывается болью в сердцах честных людей.
И гибель Пушкина, такая, как и вся его жизнь, без позы и фразы, в том духовном одиночестве, в каком он себя чувствовал многие годы, не может пройти бесследно. Она всегда искупляющее страдание, призыв и возбудитель к покаянию, о котором сегодня так много говорят и пишут, и которого, к сожалению, ещё слабо видно в русском обществе… А для искупления прегрешений и для побуждения народа к покаянию всегда требуется жертва. А в жертву всегда избирается лучшее, а не худшее.
Судя по статьям в «Современнике» и стихам 1836-го года, можно сказать, что А. С. Пушкин способен был разрешить одну из сложнейших богословских проблем: проблему совмещения духовности и художественности. Творческое соединение с Богом (синергия) характерно именно в православной традиции. В синергийном состоянии и последующем творческом воплощении происходит взаимопроникновение двух реальностей. Павел Флоренский объясняет это явление следующим образом:
«Так, в художественном творчестве душа восторгается из дольнего мира и восходит в мир горний. Там, без образов она питается созерцанием горнего мира, осязает вечные наумены вещей и, напитавшись, обременённая ведением, нисходит вновь в мир дольний. И тут, при этом пути вниз, на границе вхождения в дольнее, её духовное стяжание облекается в символические образы…»
Таким образом, статья Пушкина о жизни и трудах святителя Григория (Конисского), как завещание потомкам, и священству, и мирянам, проявилась в трёх соприкосновениях: как личный внутренний опыт «встречи», как видение идеала и сращение с ним и как воплощение, выявление и раскрытие смысла.
Гений всегда творит из глубины национального духовного опыта, именно творит, а не заимствует и не подражает, но продолжает классическую православную традицию. По воспоминаниям князя Вяземского, Пушкин в последние годы жизни особенно имел сильное религиозное чувство: читал и любил читать Евангелие, был проникнут красотою многих молитв, знал их наизусть и часто твердил их. Как-то, держа Евангелие в руках, Пушкин сказал: «Вот Единственная книга в мире: в ней есть все». А потому такому гению после прочтения Евангелия невозможно остаться прежним. Многие и другие его близкие современники, как Жуковский, Гоголь, Плетнёв, А. О. Смирнова оставили о религиозности Пушкина замечательные воспоминания:
«Как Пушкин созрел, и как развилось его религиозное чувство! Он несравненно более верующий, чем я!»
«В последнее время набрался он так много русской жизни и говорил обо всём так метко и умно, что хоть записывай каждое слово: оно стоило лучших его стихов; но ещё замечательнее было то, что строилось внутри самой души его и готовилось осветить перед ним ещё больше жизнь».
«Поэт наш находил неистощимое наслаждение и в Евангелии, и многие священные тексты заучивал наизусть…»
А вот благоговейный отзыв Пушкина о святых: «Ничто не может быть любопытнее истории святых, этих людей с чрезвычайно сильною волею… За этими людьми шли, их поддерживали, но первое слово всегда было сказано ими». Постоянно обращаясь к Священному писанию, Пушкин, конечно же, знал библейские стихи о почитании святых. Приведём некоторые из них: «Память праведника пребудет благословенна» (Притч. 10,7). «В вечной памяти будет праведник…» (Пс. 111,6). «Вот мы ублажаем тех, которые терпели…» (Иак. 5,10), «Поминайте наставников ваших…» (Евр. 13,7)
Выдающийся русский философ И. А. Ильин, дополняя высказывания А. С. Пушкина о католичестве и в целом о Европе, пишет:
«Православие и католичество одинаково возводят свою веру ко Христу, Сыну Божию и к евангельскому благовествованию. И тем не менее их религиозные акты не только различимы, но и несовместимы по своей противоположности. Первичное и основное пробуждение веры для православного — есть движение сердца, созерцающей любви, которая видит Сына Божия во всей Его благости, во всём Его совершенстве и духовной силе, преклоняется и приемлет Его, как сущую правду Божию, как своё главное жизненное сокровище. При свете этого совершенства православный признаёт свою греховность, укрепляет и очищает им свою совесть и вступает на путь покаяния и очищения».
Именно такие чувства убедительно и глубоко раскрыл А. С. Пушкин в стихах 1836-го года:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
Тщательно изучая жития святых, Четьи-Минеи и Пролог, делал оттуда выписки, готовясь составить Словарь о Святых прославленных в Российской Церкви. Назначение Поэта Пушкин выразил в стихах:
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
Являясь по определению И. А. Ильина, «солнечным центром нашей истории», Пушкин соединил XVIII век со своим временем и нашими веками, восстановив и углубив в нашем сознании традицию как литературной классики, так и всего течения русской жизни. А потому настоящий русский патриот вслед за Пушкиным всегда скажет: «Ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков». А главное — как святитель Георгий (Конисский) и А. Пушкин ставить всегда себя и своих героев перед Богом. «В жизненных испытаниях, в критические минуты, в моменты высшего напряжения душевных сил выносить судьбоносные решения, соотносясь с Евангелием» (В.Смык).
Труды святителя Георгия и А. С. Пушкина — это стрелы, пущенные в вечность.
Православный краевед, руководитель Народного музея
Народной славы «СШ № 1 г. п. Лиозно»
Витебской области
Нина Тихомирова